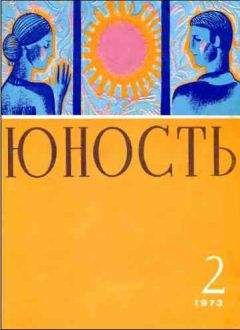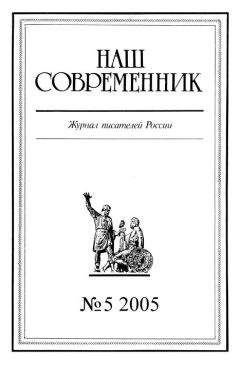Журнал Юность - Журнал `Юность`, 1974-7
Он протянул мне руку, крепко пожал и, стоя, взглядом проводил до двери.
От всего услышанного, пережитого у меня замутилась голова, как бывает после неспокойного сна с неясными сновидениями, которые никак не удается осмыслить. Я вернулся к своей кровати, разделся. А когда лег и взял книгу, понял — читать не смогу, надо подумать, развеяться. Решил сходить в лес, побродить среди набухших почек, по оттаявшим пятнам земли.
Дорога затекла лужами, будто обозначила ими сияющий, зовущий путь в дали дальние. На бровке купался тощий взъерошенный воробей. Окунал головенку, чистил перышки, подпрыгивал и бездумно чирикал. Припомнился вдруг давний голос отца. Он сказал мне, увидев такого воробья: «Смотри, зимой кричал: «Чуть жив, чуть жив!», а сейчас: «Семь жен прокормлю, семь жен…»
— Погоди-ка!
Я оглянулся. Перепрыгивая лужи, по дороге бежал старший сержант Бабкин. Бежал ко мне.
— Ты куда? — спросил он, часто дыша, покраснев от быстрого движения. — В лес?
— Угадал.
— Смотрю в окно — потопал. Думаю — прогуляюсь тоже. Голова гудит, погодка какая-то дурная… Колушкин освободил, что ли?
— Освободил.
— Миррово! — Бабкин разбежался, сделал длинный прыжок через лужу с ледяным дном, пяткой угодил в воду, ударом расплеснул брызги.
Я побежал за ним, и мы бежали, пока не уморились, потом пошли шагом; за пригорком спряталась казарма, лишь высилась к небу, истончалась и пропадала в свете радиомачта.
— Во лесу-лесочке набухают почки, — по-детски жалобно пропел Бабкин. — Сам сочинил. Хорошие стихи?
— Вполне.
— В школе, когда учился, сочинял. В стенгазете печатали. — Он тряхнул чубом, пальнул в меня черным монголистым глазом — верно или нет? Тихонько рассмеялся. — Девчонки влюблялись.
— С твоей мордой да еще стишки!
— Во! Правильно! Потому я и бросил: проходу не давали. А ты сочиняй, может, человеком станешь.
— Еще учитель нашелся!
— Обиделся? Постой, постой-ка. — Бабкин ухватил меня за рукав, остановил, вгляделся хмуровато в мое лицо. — Да ты что, по-серьезному больной?
— Не знаю.
— Температура есть?
— Небольшая.
— Лицо у тебя будто после парной. Может, назад повернем?
— Ерунда. Побродим.
Свернули с дороги, пошли по мягкому, насыщенному влагой снегу — он легко вминался под ногами, но где-то в глубине, спрессовываясь, держал крепко, почти как наст.
— Ми-ро-во! — длинно выговорил в сырое пространство Бабкин, сбросил бушлат, шапку, пропустил растопыренную пятерню сквозь чуб, сграбастал его, потряс вместе с головой.
Подошел к березе, провел ладонями по коре, постоял в обнимку и вынул из кармана складной нож. Щелкнул — лезвие сверкнуло, выстрелило. Показал мне: отличный, охотничий, сибирский нож.
— Напою соком.
С поваленного сухого ствола снял кусок бересты, согнул корытцем, закрепил края — получился аккуратненький туесок. Вернулся к живой, выбранной березе, осторожно сделал поперечный надрез; от середины его провел продольный, пошевелил ножом, слегка приподняв кору, и в конец надреза вбил желобок, выстроганный из подсохшего сучка.
Желобок набух, уронил несколько мутных капель, а потом с его кончика засквозила прерывистая струйка сока. Когда она просветлела, засверкала дождевой ниткой, Бабкин поставил под нее туесок. Тугая береста тихонечко залопотала, забубнила.
Лег животом на бушлат, подпер ладонями подбородок.
— Смотри, — сказал через минуту. — Муравьишка бежит. — Подставил палец. — Смотри, сердится. Укусить хочет.
— Пусть бежит, не мешай.
— Да я так — интересно. Такой холод перемог.
— Голосков говорил: у нас не больше права на жизнь. Раздавишь просто так червяка, убьешь просто так ворону, обидишь просто так человека — считай, что и сам уже только наполовину человек.
— Смешной был. Ему бы женщиной родиться.
— Или деревом.
— Ты немножечко смахиваешь на него.
— Спасибо.
— А я не хочу таким. Я переделаю себя. Как лейтенант Маевский буду — одни натянутые жилы.
— Для чего?
— Для жизни. И вообще… Как я, ничего парень?
— Вроде.
— Считай, что армия — моя вторая мама. Теперь я могу жить дальше, знаю, как жить.
Я рассказал Бабкину о Беленьком, его письме к матери, о нашем разговоре. Он помолчал, похму-рился, обдумывая мои слова, проговорил грустно:
— Я так о нем и думал. Просто мужик, потому и перегибает. Ему бы грамотешки поднабраться…
Рядом белела тоненькая березка, я качнул ее — сверху посыпалась роса. Вгляделся в редкую сетку ветвей, и на ровной голубизне неба проступили несчетные блестки, как на оконном стекле после дождя: с кончиков сломленных веточек, с каждой почки свешивались, дрожали в холодке капельки сока. Я показал их Бабкину.
— Это для стишков, — смущенно, как-то по-девчоночьи усмехнулся он. — С почек — горький, не пробовал? Попробуй моего. — Он поднялся, пошел к березе-донору, осторожно ступая, принес в протянутых ладошках берестовый туесок. — Пей свои сто пятьдесят. Законные.
— Полезно?
— Живая водица.
Туесок был полный, сок бугорком вспухал над его краями, и я медленно, словно кипяток, приблизил его к губам. Отпил. Сладковатая древесная прохлада пролилась внутрь меня. Выпил все, до белого донца. Отдал Бабкину туесок и сидел, явственно ощущая, как холод сока всасывает в себя мое повышенное тепло: будто понемногу приобщает, приспосабливает к открытому, ветреному сырому простору.
Бабкин опять лег на бушлат, занемел, свел резкие скобки бровей, уставившись в жестколистый багульниковый лес. Он размышлял. А я не мог мыслить от шума, какой-то ослепленности, почти непроницаемой мутности в голове. Лишь раз отчетливо возникли белый халат, белый колпак, белые простыни… Я спросил себя: «Неужели серьезно?» — и зябко вздрогнул. Словно ощутив это, Бабкин быстро повернулся, сел, сцепил на коленях руки — хрустнули пальцы, как влажные ветки, — тяжеловато, с силой тряхнул головой.
— Послушай… Сейчас решил. Навсегда. Лежал — и решил. От всего этого снега, земли, от тебя тоже. От жизни. — Кивок головой, вдох, шумный выдох — Женюсь на Кате. Мне она как память о войне будет. Еще как пример: она упрямая, мне души не хватает. Я только на вид строжусь. Ты знаешь. И она угадала. Говорит: «Я же тебе мама буду, а не женушка». Сама-то на пять лет младше меня. И еще… — Молчание, хруст пальцев, выдох. — Это главное. Как подумаю: ее никогда не будет, потеряю, как из рук выроню, — сам себя пугаюсь.
Мы встали, двинулись к дороге. Не говорили до самой казармы, и Бабкин не спрашивал у меня совета: теперь он был не нужен ему.
Перед сумерками пришел Иван Шемет, поставил на тумбочку ужин, сел на край кровати, очень весело хлопнул по одеялу. Похохотал. Заговорил о всяком разном: вот еду принес, узнав, что друг захворал, погуще по такому случаю кашицы всыпал, а вообще весна уже, скоро Амур тронется, водица заиграет и можно будет удочкой побаловаться Веселил, щекотал, взбадривал. Пообещал вызвать в свой колхоз, назначить личным секретарем, когда сам на главного агронома выучится.
Через несколько дней меня пригласил в кабинет капитан Мерзляков. Был он чисто выбрит, держался легко и прямо, и руки у него не дрожали — выглядел так, будто навсегда перестал мучить его отполовиненный желудок. Улыбнулся мне. Неторопливо пожимая руку, поздравил с присвоением звания «старшина» и вручил удостоверение радиста первого класса. Выразил надежду, что «ценная армейская специальность» вообще пригодится мне в жизни («Считайте— вам повезло!»), пожелал дальнейших успехов.
Служба подходила к концу.
г. Обнинск.
Юнна Мориц
Золотые дни
Долины сентября лежали в золотильне,
На выпуклых плодах играл червонный свет,
Червонное зерно в амбарах молотили,
Шагал червонный бык с червонным стадом
вслед.
Червонный бок быка лоснился, словно
купол,
Внушая благодать, как храм среди лугов,
Червонный пастушок рукой червонной
щупал
Его червонный лоб со скобками рогов.
Червонное чело быка с червонным чревом
Подмаслило лазурь, нагнув червонный рог,
Червонная заря взошла, держась над
хлевом
В качели золотой за золотой шнурок.
Среди червонных слив червонной птицы
профиль
Бросал червонный взор на золотое дно —
Так к золотым пескам червонный льнул
картофель,
И к рыбам золотым — червонное вино.
На золотой скамье в глухой червонной
чаще
Швырялись мы вовсю молчаньем золотым,
Мы знали в этом толк: страстей червонных
слаще
В коптильне золотой нам золотильный
дым!
Был золотой запас истрачен без остатка,
И веком золотым разило от ветвей,
Где золотым тавром пылала в сливе
складка,
И золотом шуршал, гуляя, соловей.
В червонных облаках со вздохом
облегченья
Стояло существо, чей золотой зрачок
Кому-то подал знак окончить золоченье
И золотой сундук захлопнуть на крючок.
Под слоем золотым — орехи, ложки, ноги,
Младенец золотой колотит в бубенец,
Чтоб золотой порой по золотой дороге
В одеждах золотых проехать наконец.
Младенец золотой благоухает чудно,
Не я ли так смогла его позолотить?
Наверно, это я. Кому еще не трудно
И в золоте ходить и золотом платить!
Шелестит перевясло
И колесная ось.
Что-то в роще погасло
И снова зажглось.
Что-то вспыхнуло синим
И зеленым огнем.
На мгновенье остынем.
Станем тише, чем днем,
Станем дальше, чем звезды,
Друг от друга, когда
Загорается воздух
В роще возле пруда.
В этой дальности — радость,
Обмирание рук.
Как восточная сладость.
Тает окрика звук.
Я вблизи, я не дальше,
Чем земля от небес,
Безыскусность — от фальши,
И от ангела — бес.
В чем причина отлучки!
Раздается в ответ
Струйка ливня из тучки,
В роще вспыхнувший свет.
И, хватая подсказку,
За полночной доской,
Золотую повязку
Я срываю рукой —
Взор свободен, как мысли,
Мысли с горных озер
На крутом коромысле
Вносят ясность во взор.
В этой ясности — холод,
Холод вечности в ней,
В этом холоде — сопод
Пивоварни моей!
Там на ворохе сена —
Муза с кружкой в углу.
Океанская пена
Уползает во мглу.
Шелестит перевясло
И колесная ось.
Что-то в сердце погасло
И снова зажглось.
Пахнут сумерки белилами,
Пахнут красками, известками,
Пьем под сочными стропилами
Чай с тропическими блестками.
Маляры ушли и плотники —
До рассвета, разумеется.
Опершись на подлокотники,
Осень в кресле чаем греется.
Дух ремонта капитального,
Зная толк в сердечной грамоте,
Образ быта госпитального
Разбинтовывает в памяти.
Грусть морозная, стерильная
Входит в грудь иглой метрового,
И душа болит обильная.
Плоть вбирая в нить суровую.
Но рывком, возвратом к доблести,
К мощным узам здравой бытности
Обезболиваю области
Вдохновенной ненасытности.
И за это во Флоренции
Нам играет фортепьяно
Трехголосные инвенции
Иоганна Себастьяна.
Олег Дмитриев